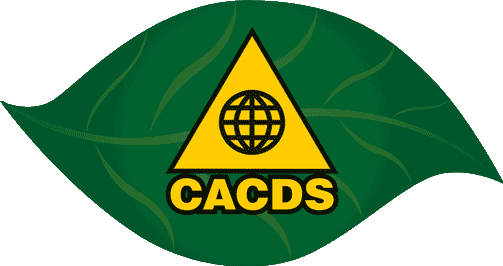18 июля 2025 года официальный Баку объявил, что не примет участие в сессии экономического совета CНГ. Это решение лишний раз подчеркнуло беспрецедентно глубокий кризис в азербайджано-российских отношениях, разворачивающийся на полную мощность.
В то время как Баку традиционно занимал независимую позицию по отношению к Москве и в целом старался держаться в безопасной дистанции от Кремля, азербайджанское правительство в то же время активно участвовало в деятельности СНГ, стратегически используя своё участие как символическое послания России: несмотря на подчеркнуто самостоятельную внешнюю политику, Баку не собирается выходить из постсоветской культурно-политической экосистемы, которая в России воспринимается как ее «первая линия» внешнего влияния. Одновременно Азербайджан рассматривал СНГ как удобную площадку для укрепления горизонтальных связей с другими постсоветскими странами, таким образом, ограничивая одностороннее доминирование Москвы в этом закрытом клубе.
Этот демарш стал закономерным продолжением цепочки событий, начавшихся с жёсткого задержания группы азербайджанцев в Екатеринбурге, приведшего к гибели двоих из них и госпитализации еще нескольких человек с тяжёлыми травмами. Эти новости вызвали волну возмущения в Баку и резкий ответ. Первые действия включали отмену визита вице-премьера России А.Оверчука, курирующего крупные транспортные проекты (в последние годы превратившиеся в становой хребет двусторонней повестки), намеченной встречи парламентариев двух стран в Москве, концертов российских артистов в Азербайджане на несколько месяцев вперед, а также арест нескольких граждан России, включая двух журналистов бакинского офиса «Спутника» (офицеров ФСБ РФ), и серию крайне критических публикаций в азербайджанских СМИ. Эти публикации касались не только двустороннего кризиса, но и войны России против Украины, в резкой форме осуждая российскую государственную идеологию как «шовинистическую» и даже фашистскую, и при этом чуть ли не впервые для государственных и окологосударственных азербайджанских медиа открыто критикуя лично В.Путина. Это последнее обстоятельство подчеркнуло, что эпоха «business as usual» Баку и Москвы, основывавшаяся на личных взаимоотношениях двух лидеров, подошла к концу, и наступил период тотальной перестройки.
Продолжающееся напряжение между двумя формальными союзниками подчёркивает, что разлад в их отношениях, начавшийся с трагедии 25 декабря 2024 г., когда азербайджанский самолёт, был сбит российской системой ПВО над Грозным, — не случайный эпизод, а элемент глубокого процесса расхождения. Попытки разрешить ситуацию привычными дипломатическими методами, предпринятые как Баку, так и Москвой в первой половине 2025 года, оказались безрезультатными. При этом масштаб и резкость ответных действий со стороны Азербайджана превзошли даже самые смелые ожидания и вызвали удивление даже у хорошо знакомых с регионом наблюдателей.
Тем не менее, многие эксперты продолжают объяснять этот кризис шагами президента Алиева, направленными на укрепление собственного имиджа как сильного и принципиального лидера, либо как попытку получить более выгодные позиции в переговорах. Эти интерпретации выглядят, в лучшем случае, поверхностно и упрощённо: как риторика, так и конкретные меры, особенно в свете широкой геополитической обстановки, свидетельствуют о серьёзном, нешуточном кризисе. «Джентльменское соглашение» между президентами Путиным и Алиевым, долгое время служившее основой двусторонних отношений и зачастую заслонявшее институциональное взаимодействие между странами, более не работает. Причины, по которым оно могло быть нарушено, неоднозначны, тогда как прогнозы относительно того, что может прийти ему на смену, существенно разнятся.
Как уже упоминалось выше, нынешняя эскалация формально берёт начало с трагедии с самолётом, когда Москва, вопреки ожиданиям Баку, отказалась публично признать свою ответственность и наказать виновных. С тех пор произошло несколько инцидентов, которые постепенно отравили двусторонние отношения. Россия на уровне парламента АР обвинялась в совершении массированной кибератаки на ряд государственных сайтов и медиа в феврале 2025-го. В апреле российские власти без объяснения причин не пустили в страну депутата Милли Меджлиса А.Бадамова, члена межпарламентской группы дружбы. В те же дни в Баку прибыл патриарх Кирилл с особым приглашением президенту Алиеву посетить парад Победы в Москве 9 мая, и отказ последнего был расценён в Москве как недружественный шаг.
Очевидно, что все эти процессы вряд ли имели бы место, не начни РФ военную агрессию против Украины. Продолжающаяся более трёх лет, она постепенно подрывает баланс между различными элитными группами внутри России, подталкивая президента Путина всё больше концентрировать власть и ресурсы в своих руках, и одновременно льет воду на мельницу репрессивного аппарата. Одним из нежелательных последствий войны для Кремля стало усиление влияния силовиков — представителей армии и спецслужб — за счёт снижения влияния других групп. Более того, чтобы стимулировать приток добровольцев на войну в Украине и сохранить хотя бы видимость легитимности, Москве приходится заигрывать с весьма проблемной аудиторией — от националистов до великодержавных шовинистов и православных экстремистов, особенно имеющих боевой опыт «Z-активистов», — которые формируют новый, агрессивный тип российского национализма.
Эти процессы прямо угрожают негласному «пакту» между государством и бизнесом, а также бюрократической элитой. С одной стороны, этнические диаспоры (в числе которых азербайджанская является одной из самых многочисленных и успешных) играют важную роль в социально-экономической структуре России — например, предприниматели азербайджанского происхождения широко представлены в сфере розничной торговли и строительства. Эти диаспоры уже давно являются красной тряпкой для русских националистов, которые называют их «троянскими конями» своих стран, якобы эксплуатирующими ресурсы России в своих интересах.
С начала войны мнения, ранее находившиеся на периферии общественного дискурса, постепенно переходят в мейнстрим. Растущая тревожность по поводу иностранного влияния сделала российское правительство всё более восприимчивым к требованиям ужесточить контроль над людьми и группами, имеющими тесные связи с заграницей — будь то бедные мигранты или богатые бизнесмены. Теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, совершённый гражданами Таджикистана, усилил антимигрантские настроения в России и дал силовикам удобный повод для масштабной репрессивной кампании. Тот факт, что место трагедии принадлежит азербайджанскому миллиардеру Аразу Агаларову, стал поводом для националистических блогеров спекулировать на тему якобы «азербайджанского следа» в этом нападении.
Развернувшаяся кампания выявила откровенно ксенофобские настроения, которые усугубляются глубинным раздражением, связанным с ограничениями на свободу слова в России. Для многих националистически настроенных россиян влиятельные чеченцы становятся сильным раздражающим фактором, открыто критиковать который они не могут из-за действующих запретов, и провоцируют выплеск агрессии на другие, менее привилегированные группы.
К тому же, как это традиционно бывает в России, рост национализма подогревает шпионскую истерику. В нынешнем случае антиазербайджанские настроения способствуют популяризации одной из теорий заговора, согласно которой Турция и Азербайджан являются ключевыми проводниками британской политики, нацеленной на расшатывание и в конечном счете распад России. Естественно, они зазвучали с удвоенной силой после пресс-конференции президента Алиева на традиционном медиа-форуме в Шуше, где тот, отвечая на вопрос украинского журналиста Д.Гордона, посоветовал украинцам никогда не мириться и не признавать оккупацию их земель. Сразу актуализировались обвинения в адрес Баку, связанные с якобы оказанием им военной поддержки Киеву.
Ситуация осложняется более широкой сменой российской государственной политики, затрагивающей не только диаспоры, но и экономическую элиту, которую теперь всё чаще воспринимают не как ключевых участников, а как «дойных коров». Всё больше публичных фигур заявляют, что в условиях, когда Москва сталкивается с вызовами из-за начатой «специальной военной операции», настало время для олигархов и корпораций пожертвовать значительную часть своего богатства на нужды страны. Естественно, эта линия стала играть ключевую роль в элитной борьбе на фоне «СВО», когда сравнительно новые и менее укрепленные во власти группы делают ставку на жесткую руку и патриотизм, чтобы потеснить своих конкурентов. Что, кстати, и происходило в Екатеринбурге после отставки предыдущего губернатора Куйвашева, выстроившего с местными диаспорами неплохие отношения.
Одновременно правые популистские медиа, такие как «Царьград», «Рыбарь» и ряд Telegram-каналов, связанных с так называемыми «военкорами» (самопровозглашёнными, но подконтрольными российским спецслужбам военными корреспондентами, работающими или работавшими на оккупированных украинских территориях), получают все большую публичную известность и поддержку со стороны властей, укрепляя националистический и антиэлитарный нарратив.
Надо отметить, что рост прессинга на диаспору, который проявлялся в том числе в многочисленных инцидентах, когда проживающих в РФ азербайджанцев – как и представителей многих других национальностей – пытались заставить подписать контракт с вооруженными силами под угрозой депортации или уголовного преследования, а также случаях лишения российского гражданства и последующей высылки из страны, начался задолго до декабря 2024-го и воспринимался в Баку с растущим раздражением как нарушение Москвой своих обязательств. Екатеринбург стал всего лишь верхушкой айсберга.
Далее, реакция РФ на трагедию с самолетом АЗАЛ сама по себе стала ключевым фактором кризиса безотносительно от объективных долгосрочных процессов.
Эта реакция – отказ публично признавать свою вину и наказать виновных – является весьма нерациональной, так как Азербайджан первоначально не хотел выносить историю в публичное пространство, предоставил Кремлю паузу для того, чтобы сохранить лицо и «неформально» решить вопрос, и вместе с тем глубоко логичной в рамках специфического образа мышления путинского окружения. Отказ от публичных извинений, а в случае с постсоветскими странами – еще и потребность выглядеть доминантной стороной, а не как «равный с равными», – обусловили именно такое поведение со стороны Путина. Вместе с тем раздражение Кремля по поводу неуступчивости президента Алиева обнажило новые смысловые пласты. Поэтапное обнародование азербайджанскими медиа подробностей трагедии и, наконец, конкретного имени виновника, отдавшего приказ бить на поражение, нанесло ущерб патологической скрытности Кремля, основанной на спецслужбистской уверенности в неразглашаемости секретной информации. Возможно, в Москве изначально были уверены, что смогут надежно спрятать истину о случившемся, но уровень осведомленности Баку неприятно поразил Россию, засвидетельствовав еще один важный признак изменения баланса сил между странами.
Ну и наконец, надо вспомнить, что происходило на Южном Кавказе между декабрем 2024-го и июнем 2025-го. 14 марта нынешнего года Баку и Ереван объявили о принципиальном согласовании текста мирного договора, причем оно было достигнуто на двусторонней основе, без участия посредников, как настаивал Азербайджан. Интересны геополитические отголоски этого процесса. Если с апреля отношения Азербайджана и ЕС после долгого пике резко повернули к улучшению, а в Баку не скрывают своего одобрения текущей роли Брюсселя в регионе, Москва отреагировала с плохо скрываемым злорадством. Российские чиновники самого разного уровня, вроде министра иностранных дел С.Лаврова, начальника департамента МИД Е.Масюка или путинского спикера Пескова, выражали неприкрытую тревогу по поводу будущего Южного Кавказа, опасаясь, что предложенный вариант мирного договора «скороспелый» и является навязанным Западом и не отражающим «истинные интересы и исторические особенности» двух народов.
Эти заявления обнажили степень недовольства Кремля изменением баланса сил в регионе и прежде всего реальной перспективой примирения и даже сотрудничества Баку и Еревана, чей конфликт был одним из основных рычагов влияния Москва на них обоих.
Примерно в это же время Н.Пашинян стал наращивать давление на своих пророссийских оппонентов внутри страны, включая в первую очередь, католикоса Гарегина II и его людей внутри церкви, а также крупнейшего олигарха С.Карапетяна, совладельца армянской электрической компании, контрольный пакет в которой до сих пор принадлежит РФ и что воспринимается официальным Ереваном как реальная угроза.
И все эти процессы на Южном Кавказе происходят на фоне двух важнейших событий: смены власти в Сирии, которая привела к фактическому вытеснению Москвы с Ближнего Востока и росту влияния Турции, а также 12-дневной войны Израиля с Ираном. Эта война обнажила огромное количество внутрииранских проблем и противоречий, закономерно дав новый импульс элитной борьбе. При этом сейчас в случае победы реформаторов может идти речь о полномасштабной смене режима.
Азербайджан стал одним из основных факторов в этой борьбе: в то время как реформаторы, которых олицетворяет президент Пезешкиан, призывают к выстраиванию дружеских отношений с Баку, старые элиты усилили антиазербайджанскую риторику и обвинения в прямой военной поддержке Тель-Авива против Тегерана. Фактор Зангезурского коридора для иранских сторонников статуса-кво – мощный раздражитель, при этом сейчас они уже не особо апеллируют к «территориальной целостности Армении», а прямо заявляют, что Иран не потерпит проекта открытия дороги, поддержанного со стороны США.
На фоне такой глубокой геополитической трансформации Южного Кавказа прежние договоренности стремительно теряют силу. Имея в сухом остатке все более непредсказуемый Иран и агрессивную Россию, Баку стремится выстроить новую конфигурацию в регионе, которая могла бы минимизировать угрозы его суверенитету.
Полная нормализация с Арменией в её рамках – непременное условие, а вариант России, который предполагает сохранение ее доминирования на Южном Кавказе и некоторых неопределённостей между Баку и Ереваном, которые в случае чего могли бы вновь быть использованы в будущем, стал абсолютно неприемлемым.
И если представить себе, что давние враги приедут договариваться в Вашингтон, было абсолютно невозможно еще несколько месяцев назад, то теперь «доля» США в будущем региона может стать важным сдерживающим фактором. Особенно если допустить, что в скором времени военные действия в Украине могут быть приостановлены и Москва могла бы почувствовать сильную тягу сконцентрировать силу на Южном Кавказе.
Ещё раньше Баку заключил договор о стратегическом партнерстве с Пекином и рассчитывает, что китайский интерес в регионе серьезно остудит горячие головы в Кремле. Теперь же РФ встанет перед непростой дилеммой: либо принять новый расклад сил и восстанавливать отношения с Азербайджаном и Арменией на условиях последних, либо же вступать в конфронтацию, исход которой совершенно непредсказуем и грозит обрушить основы российского геополитического влияния. Тем более, на фоне «чуда Трампа» в Вашингтоне от 08 августа …
Мурад Мурадов, заместитель директора Центра им. Топчубашова (Баку, Азербайджан)