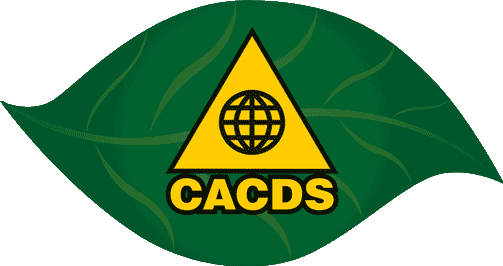О перспективах регионального интеграционного проекта Азербайджан-Армения-Грузия на фоне неопределённости с форматом «3+3».
17 апреля 2025 года в Тбилиси состоялось историческое событие: заместители министров иностранных дел трех государств Южного Кавказа – Азербайджана, Армении и Грузии – провели трехстороннюю встречу, впервые на официальном уровне в таком формате с момента восстановления независимости.
По итогам встречи, Армения выразила надежду, что встерча поспособствует решению общих проблем и внесёт вклад в долгосрочную стабильность и ускорит развитие региона Южного Кавказа. Чуть ранее, 12 апреля на полях Дипломатического Форума в турецкой Анталье собственно министры иностранных дел Байрамов, Мирзоян и Бочоришвили объединились в рамках панели, где затронули принципиальные вопросы, касающиеся переговорного процесса между Баку и Ереваном, мирного сосуществования и перспектив для будущих взаимоотношений в регионе.
Такие мероприятия сами по себе – прорывные для Южного Кавказа, раздробленного многолетним и непримиримым азербайджано-армянским конфликтом, состоялись на фоне выступления президента Алиева 9 апреля на форуме в университете АДА. Азербайджанский лидер заявил, что хотя о полной нормализации с Арменией говорить очень рано, шаги в сторону укрепления доверия, такие как взаимные визиты экспертов и журналистов или переговоры по статусу пограничных рек, предложенные грузинской стороной, вполне могут состояться в ближайшем будущем.
«Апрельский прорыв» случился после нескольких месяцев застоя и «стратегического молчания» азербайджанской стороны в переговорном процессе с Ереваном. В феврале президент Алиев довольно неожиданно проигнорировал Мюнхенскую конференцию по безопасности, в рамках которой в предыдущие годы не раз имели место важные и даже судьбоносные встречи на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном. Тем не менее, в середине марта армянская сторона объявила том, что успешно согласовала текст мирного договора с Азербайджаном, что чуть позже подтвердил Баку. Теперь «дело за малым» – Баку ждёт от Еревана роспуска Минской Группы ОБСЕ (вопрос скорее технический) и принятия новой конституции, очищенной от территориальных претензий в адрес Азербайджана (что конечно сопряжено с целым рядом неизвестных). Однако эта, казалось бы, прорывная новость прошла в весьма сдержанном контексте. Этот контекст заметно изменился с рождением трехсторонней южнокавказской динамики, которая вполне может стать триггером фундаментальных изменений.
Почему же эти встречи Баку-Ереван-Тбилиси вызвали большой энтузиазм? Южнокавказское сотрудничество долгое время оставалось одной из крупнейших «отсутствующих переменных» международной политики, несмотря на наличие солидных исторических предпосылок для него.
Богатством и одновременно главной проблемой территориально небольшого, но очень культурно пестрого региона являлось как раз его разнообразие, которое делало весьма затруднительной политическую интеграцию. Пусть в разные периоды Южной Кавказ попадал под влияние империй с центром в нынешних Турции и Иране, впервые его территория оказалась в составе одного государства лишь с российскими завоеваниями 19 века.
Совместный опыт модернизации и борьбы за свои права привел к тому, что в апреле 1918 года на фоне гражданской войны в России в Тбилиси сложился уникальный государственный орган – Закавказский Сейм, объединивший представителей Грузии, Армении и Азербайджана и по сути, оформивший регион как единое государство, пусть оно, под давлением всё тех же внутренних противоречий, распалось на три отдельные республики уже в конце мая того же года.
Уже после советизации, в 1922 году пространство Южного Кавказа было преобразовано в единую Закавказскую Советскую Федеративную Республику, которая, став одним из государств-основателей СССР, просуществовала 14 лет, пока не была разделена обратно на три части. Одновременно целый ряд выдающихся политэмигрантов из числа народов Кавказа, мечтавших об освобождении от власти Москвы, в изгнании развивали идеи «Кавказского Союза», считая, что противоречия между республиками предопределили успех советских войск и приравнивали свободный Кавказ к единому Кавказу.
Движения за независимость народов региона, наряду со странами Балтии, сыграли важную роль в распаде Советского Союза. Однако судьба этих регионов в дальнейшем сложилась совершенно противоположным образом. Если три балтийские республики завоевали независимость рука об руку- в буквальном смысле, как во время знаменитой акции «Балтийский путь» – и так же синхронно вступили в ЕС и НАТО, полностью разделяя позиции по большинству ключевых вопросов, то Южный Кавказ стал землёй вражды и конфликтов.
Армяно-азербайджанский конфликт, из-за которого две страны до сих пор не имеют дипломатических и даже экономических отношений, с самого начала 1990-х является преградой для формирования полноценного политического региона. Внешняя политика Грузии, несмотря на тесное стратегическое партнёрство с Азербайджаном, вследствие отсутствия региональной политической повестки долгие годы имела серьёзный крен в сторону европейской интеграции, в то время как южнокавказская идентичность отодвигалась на второй план. Ереван же, связавший свою безопасность с Москвой, стал членом ЕАЭС и ОДКБ, при этом не имея физических границ с другими странами из этих блоков.
Таким образом, региональная сложность сделала его уязвимым объектом конкуренции международных акторов от России, Турции и Ирана до США, европейских стран и – в последние годы – Китая, Индии, Израиля и стран Персидского Залива.
До сих пор все три страны региона сообща присутствовали либо на площадках, которые не могут играть роль интеграционных механизмов, как например Совет Европы или ОБСЕ (более того, деятельность ОБСЕ не раз осложнялась угрозами армянской или азербайджанской стороны заблокировать принятие организационного бюджета), либо же совершались попытки собрать регион вместе в форматах, чьё благотворное влияние на страны Южного Кавказа весьма сомнительно.
Одной такой попыткой стала российская инициатива «кавказской четвёрки» в начале 2000-х, которая, если отбросить дипломатическую завесу, преследовала цель дать Москве больше возможностей для манипуляции регионом.
Другой, более продвинутой, является формат «3+3», в котором Азербайджан, Армения и Грузия присутствуют наравне с тремя региональными державами, РФ, Турцией и Ираном. Эффективность этого начинания с самого начала была поставлена под вопрос отказом Тбилиси участвовать по причине нерешённого территориального конфликта с Россией. Азербайджан поддержал эту идею скорее из тактических соображений, как свидетельство своей готовности учитывать интересы всех местных акторов- Баку прекрасно понимает, что такая гремучая смесь едва ли может стать реальным механизмом управления регионом.
Для внешних акторов «3+3» имеет смысл только как символ исключения Запада из региональных дел, в то время как они сохраняют целый ворох противоречий друг с другом.
Вместе с тем международная среда в последние годы претерпела ряд значимых изменений.
Во-первых, безоговорочная победа Баку над Ереваном в 44-дневной войне и полное восстановление суверенитета Азербайджана на протяжении трёх следующих лет ликвидировали территориальную основу конфликта, постепенно склонив Армению к принятию новых реалий и условий мирного договора, предлагаемых Азербайджаном.
Во-вторых, бурное развитие регионального сотрудничества в странах Центральной Азии – другого постсоветского региона со сложным, но перспективным геополитическим положением, дало элитам Южного Кавказа наглядный пример того, насколько привлекательнее для иностранных партнёров и крупных инвесторов может стать регион в случае формирования механизмов политической координации и выработки совместных позиций по ключевым вопросам безопасности и развития.
Наконец, полномасштабная агрессия РФ против Украины в 2022 году показала, что в «новом дивном мире» государственная независимость и расплывчатые «гарантии международного сообщества» стоят всё меньше, что делает региональную координацию не роскошью, а почти необходимым условием для защиты суверенитета отдельно взятых стран.
Формирование региональных политических механизмов на Южном Кавказе (на первом этапе, реалистично ожидать проведения региональных консультаций на высшем и высоком уровне – глав государств и правительств и министров иностранных дел) может придать региону позитивную динамику по целому ряду направлений.
Такой сценарий даёт реальный шанс на преодоление некоторых фундаментальных преград к долгосрочной нормализации между Баку и Ереваном, проистекающих из полного отсутствия доверия и сформировавшихся за десятилетия образов врага. В Азербайджане по сей день сильны опасения, что Армения будет неизбежно пытаться взять реванш и ради этого искать покровительство влиятельных внешних сил, желающих вмешаться в политику региона. Есть даже распространённая точка зрения, что Армения предпочтёт восстановление российской власти на Южном Кавказе в той или иной форме, если этот поможет предъявить претензии на территории Азербайджана. Именно с этим связано настойчивое стремление Баку исключить «внешние силы» из переговорного процесса, в особенности после 2022 года: считается, что сама их активность побуждает Ереван к попыткам торпедировать переговоры и попытаться заручиться односторонней поддержкой со стороны этих сил.
По другую сторону границы, армянское общество в большинстве своём пессимистично смотрит на перспективы мира, опасаясь того, что Азербайджан в любом случае будет выдвигать новые требования и стремиться полностью разгромить Армению. Такая картина мира закрепляет порочный круг, в котором страхи и неопределённости обречены повышать перспективы все новых эскалаций.
Вместе с тем, в случае Южного Кавказа решение проблемы доверия через интеграцию в более крупные международные структуры, как это произошло в случае европейской интеграции для Франции и Германии, членства в НАТО для Турции и Греции, и частично в регионах Западной Африки, юго-восточной Азии и т.д., едва ли возможно. НАТО в нынешней ситуации едва ли и дальше пойдёт на конфликт с Москвой (что хорошо понимают в столицах региона). Российский ОДКБ, в который входит Армения, скорее нацелен на сохранение региона в раздробленном и нестабильном состоянии, а другие варианты блоковой интеграции на данный момент – даже не дискутируются. Грузия успела на своей шкуре ощутить все издержки проведения политики интеграции в западные институты в условиях, когда они не готовы эффективно противостоять российским шагам по торпедированию этой политики.
Стратегическая координация стран региона также может серьёзно укрепить суверенитет Грузии и её устойчивость к действиям Москвы.
В свете этих процессов очень интересен системный рост интересов ЕС в Центральной Азии, ярко проявившийся по итогам саммита в Астане в начале апреля.
Южный Кавказ все больше воспринимается как «ворота» в этот важный регион, что, в свою очередь, влияет на политику Брюсселя и отдельных европейских игроков – если раньше она была продиктована нормативными установками по интеграции стран Южного Кавказа в общеевропейское пространство и предполагало отношения формата «учитель-ученик», сейчас на первый план выходит геополитическое и экономическое значение региона, подход, который по отношению к Центральной Азии практиковался с конца 1990-х.
Учитывая эту тенденцию, а также постоянное противоборство «всех против всех», даже сравнительно небольшой Южный Кавказ может получить значительные рычаги международного влияния, если сможет обуздать внутренние конфликты и выработать совместную стратегию. Поэтому не случайно, что недавний визит Комиссара ЕС по международным делам Каи Каллас, который явно имел избирательную важность (вопреки заведённой практике, Каллас посетила только Азербайджан, минуя Грузию и Армению) состоялся по горячим следам прорывного саммита ЕС-Центральная Азия и позитивных сигналов, исходящих из Южного Кавказа. В Баку явно остались довольны результатами визита, и можно предположить, что Брюссель в лице Каллас признал новый баланс сил и интересов в регионе, выразив интерес к взаимовыгодному сотрудничеству взамен односторонней парадигмы «менторства», которая не принесла ЕС больших успехов и вызывала раздражение в ряде стран региона, включая Азербайджан.
Для Баку формирование единой южнокавказской повестки предоставляет шанс институционально оформить свой новый статус как средней силы. Сегодня Азербайджан, несмотря на впечатляющий рост своего международного значения и успешную игру в более высокой весовой категории, упёрся в определённый потолок в силу сложного географического соседства, а отсутствие мира с Арменией и, как следствие, Южного Кавказа как единого целого ограничивает возможности Баку как регионального лидера. Уже упомянутый пример Центральной Азии показывает, как сильно возросла субъектность каждой страны региона в результате их эффективного сотрудничества. Также важно, что в этом сценарии намного вероятнее безболезненное и последовательное открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией и в более далёком будущем даже, возможно, постепенная репатриация азербайджанских беженцев из Армении и армянских – из Азербайджана.
Эти прогнозы могут выглядеть маловероятно для региона, привыкшего к тому, что реальность далека от миролюбивых утопий. Можно попробовать провести аналогии с другими случаями формирования региональных политических механизмов в регионах, которые до этого страдали от частых конфликтов или как минимум недоверия. Самый знаменитый из них – евроинтеграция – покоился на двух столпах: общая усталость от войн и разрушений (что, несомненно, присутствует в нашем случае) и активная поддержка внешней силы. Для Европы такой силой были США, на Южном Кавказе единственной силой, заинтересованной в мирной интеграции и готовой в неё вкладываться, является Турция, несмотря на её исторические проблемы с Арменией.
Нынешнее армянское правительство, тем не менее, довольно положительно оценивает роль Анкары и даже активно пыталось с её помощью добиться смягчения позиций Баку. Однако для того, чтобы Турция смогла эффективно воспользоваться своим растущим влиянием, необходимо в первую очередь установление Арменией устойчивых дипломатических отношений с ней и с Азербайджаном.
С другой стороны, центральноазиатский пример подчёркивает роль политической воли на высшем уровне, особенно в контексте слабо развитых горизонтальных институциональных связей. В этом смысле на Южном Кавказе придётся иметь дело с двумя вызовами.
Во-первых, Никол Пашинян, который руководит страной в условиях открытой политической системы, должен суметь «продать» интеграционную повестку армянскому обществу, в целом всё ещё настроенному в штыки по отношению к Азербайджану, представив эту политику как необходимое условие для обеспечения безопасности Армении.
Во-вторых, определённые вопросы вызывает фактор Грузии, а именно, насколько последовательно сегодняшний Тбилиси готов поддержать этот тренд. С одной стороны, Грузия всегда активно ратовала за нормализацию армяно-азербайджанских отношений, и сейчас, в условиях конфронтации с Западом, более чем когда бы то ни было зависит от устойчивых отношений с ближайшими соседями. С другой стороны, имеются оправданные опасения насчёт степени влияния Москвы на грузинское правительство; для РФ интеграция южнокавказских стран не под её непосредственной эгидой означает неизбежное ослабление рычагов влияния, и есть риск, что Кремль может давить на Грузию с целью саботировать эту интеграцию. В конечном счете, именно наличие доверия на высшем уровне и поддержка заинтересованных внешних сил могут сыграть определяющую роль.
Москва в ходе недавнего визита министра иностранных дел Лаврова в Ереван уже сделала ряд заявлений, которые могут указывать на недовольство последними тенденциями.
Согласно подходам Кремля, согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией стало возможно благодаря трёхстороннему формату с Россией (что весьма далеко от истины), а оккупация азербайджанских территорий была обеспечена российским вооружением. Эти месседжи явно нацелены на то, чтобы, во-первых, поставить под сомнение позитивный настрой сторон, а во-вторых, подчеркнуть неизбежность России как фактора принятия решений в регионе.
Иран, несмотря на видимое потепление с Баку и беспрецедентно позитивный визит президента Пезешкиана в конце апреля, также едва ли будет рад более сильному Южному Кавказу. Недавно посол в Армении Собхани, играя на страхах армянского общества, вновь завёл старую песню о «неприемлемости территориальных изменений в регионе», под которой Тегеран имеет в виду возможное открытие «Зангезурского коридора» (через г.Мегри вдоль границы с Ираном).
Степень влияния РФ и Ирана в ближайшем будущем будет определяться рядом факторов, включая то, какую линию поведения в итоге выберет американская администрация: если Трамп пойдёт на разрядку с Москвой и Тегераном, высока вероятность того, что они объединят свои усилия с целью сохранить влияние на Южном Кавказе, что подразумевает противодействие независимой интеграции его стран.
Как же может выглядеть примерный сценарий поэтапного развития механизмов «3» и «3+» на Южном Кавказе?
Логичный первый шаг – проведение сначала рабочих, а потом регулярных саммитов на уровне глав государств и министров иностранных дел. Когда будет построено нужное доверие и появится повестка достаточного уровня охвата, будет необходимо создать ряд технических комитетов по темам, в которым все три страны желают сотрудничать. Это может быть развитие коммуникаций, создание торговых, таможенных механизмов и пр., обсуждение проблем окружающей среды, вопросов использования трансграничных водных и прочих ресурсов, борьбы с чрезвычайными происшествиями, инфекционными угрозами и т.д.
Этот процесс может пойти намного быстрее и легче в случае проведения каких-либо региональных инфраструктурных или экономических проектов, пусть даже символического характера. На этом этапе, поддержка со стороны международных доноров или государств, которым доверяют все три страны региона, может сыграть особенно важную роль.
Также для устойчивого изменения стратегического мышления в трёх столицах очень полезным было бы проведение региональных саммитов 3+ с участием крупных иностранных партнёров, по аналогии с центральноазиатским форматом 5+. Встречи в этом формате с теми же РФ или Ираном могут в какой-то мере снизить их неприятие. Однако такой формат может быть эффективным при наличии базового доверия и общей повестки, когда стороны будут готовы принимать совместные решения по вопросам международного сотрудничества. Для этого нужно время и поэтапный подход.
Наконец, можно посоветовать целый ряд шагов, которые поспособствуют более гладкому взаимодействию сторон – например, создание совместного мозгового центра, который фокусировался бы на проблемах региона и мог бы давать прогнозы и советы, приемлемые для всех трёх стран.
Мурад Мурадов, заместитель директора Центра им. Топчубашова (Баку, Азербайджан)